- Новости
-
31 Август 2023
-
28 Август 2023
- Все новости
- Объявления
-
22 Август 2022
- Все объявления
(2016 год) Образ Божией Матери на католическом Западе и православном Востоке (протоиерей Владислав Шмидт, март 2016)
Доклад прочитан на ежегодной встрече с представителями интеллигенции города Ялты на Масляной неделе 2016 г.
Не претендуя на всеобъемлющее раскрытие названной темы, автор в настоящей работе затрагивает лишь основные черты, дающие характеристику явлениям, связанным общей темой мариологии в христианском богословии запада и востока. Полагая, что из всех мировых религиозных концепций лишь западный и восточный варианты христианства утверждают о непосредственном участии Бога (Иисуса Христа) в историческом процессе человечества, мы не вправе обойти вниманием личность Его Матери, сообщившей Богу Его человеческую природу. Это тем более интересно, что сохранившиеся письменные и изобразительные источники позволяют нам проследить сам путь формирования и утверждения определённого символического канона, который стал выражением сокровенного знания раннего христианства получившего такое различное толкование после разделения церквей в 1054 году.
Наши знания о Божией Матери можно свести к трем группам источников, которые традиционно относятся к части божественного Откровения. Это выдержки из пяти книг Священного Писания Нового Завета (Четвероевангелия и Деяния святых апостолов) к которым можно прибавить шестую, пророческую книгу – Апокалипсис Иоанна Богослова. Не случайно, христианские тексты и традиция приписывает его автору честь быть усыновленным Марией при кресте Иисуса, а одному из самых подробных описателей событий Благовещения и Рождества – евангелисту Луке предание отводит роль создателя первых иконографических образов Божией Матери.
Вторая группа – это апокрифические писания – тексты, не принятые в Новозаветный канон, но почитаемые, как часть Предания и ставшие основой для создания житийных списков, иллюстрирующих праздники богослужебного круга, посвященный Богородице: Её Рождеству, Введению в храм, Благовещению и Успению. Таковыми являются:
- «История Иакова о рождении Марии» ( «Протоевангелие Иакова») II век. Египет.
- «История детства» (или «Евангелие от Фомы») II век.
- «Книга Иосифа Плотника» ок. 400 г.
- «Сказание о успении Святой Богородицы Святого Иоанна Богослова» IV-V вв.
Внешний облик Пресвятой Богородицы описал церковный историк Никифор Каллист (+ ок. 1350), который собрал свидетельства тех, кто видел ее, и позднейших авторов, в том числе святого Дионисия Ареопагита и архиепископа Александрийского святого Кирилла: «Пресвятая Дева была среднего или немного выше среднего роста, волосы золотистые, глаза быстрые, цвета маслины, брови дугообразные и черноватые, нос продолговатый, губы цветущие, лицо не круглое и не острое, а несколько продолговатое, руки и пальцы длинные». «У нее не было ничего сурового во взгляде, ничего неосмотрительного в словах»,- свидетельствует святой Амвросий Медиоланский. «В беседах с другими она сохраняла спокойствие, не смеялась, не возмущалась и не гневалась. Ее движения скромны, поступь тихая, голос ровный, так что внешний вид олицетворяет чистоту ее души. Что касается ее одежды, то…»,- как отмечает святой Григорий Неокесарийский,- « она была скромной, чуждой роскоши. Своей одеждой она ничем не выделялась среди простых людей, чему способствовали степенная поступь и приятная, кроткая речь». А вот другое свидетельство. «Мы не знаем лица Девы Марии, — писал блаж. Августин, — от Которой безмужно и нетленно, чудесным образом родился Христос... Верим, что Господь Иисус Христос родился от Девы, имя Которой Мария... Но такое ли лицо было у Марии, какое представляет в уме, когда мы говорим или вспоминаем об этом, мы совсем не знаем и не убеждены. Можно сказать, сохраняя веру: может быть, Она имела такое лицо, может быть, — не такое».
Наконец, третья группа – это источники материальной культуры – не словесные изображения, а иконографические образы, приближающие к нам внешний вид Матери Иисуса. Из всех вышеназванных источников, они подверглись наибольшему влиянию творческой фантазии человеческого гения, но это влияние сформировало определенный канон, следуя которому во времени и пространстве передана очень важная, сакральная информация. Это сделало возможным для священных изображения стать «богословием в красках» - свидетельством и утверждением истинных взглядов на Бога и человека.
Именно об этой, третьей группе источников пойдет речь в настоящей работе. Само слово «икона» от греческого εἰκόνα (от др.-греч. εἰκών «о́браз», «изображение») – указывает на некий символ, имеющий определенный смысловой ряд. Родившись из символических изображений сопровождающих римский погребальный обряд, иконы последовательно встроились в образ мысли богословского творчества эпохи.
Богословские основы.
Пасхальный догмат христианства выражен в евангельском отрывке : «Слово стало плотью, и обитало с нами, полное благодати и истины; и мы видели славу Его, славу, как Единородного от Отца» (Ин.1,14). Об очевидности иконопочитания писали древние авторы, такие как св. Василий Великий «Честь воздаваемая образу восходит к первообразу», «как слово повествования предлагается для слуха, так молчаливая живопись показывает через изображения».
Характерной чертой времени сложения иконописного канона было осмысление подвига Христа в деле спасения человеческого рода от греха, проклятия и смерти. Христианская богословская система предполагала возможность для невидимого Бога быть осязаемым и «восприемлемым» для Его последователей. В подтверждение своей правоты отцы церкви приводили свидетельство Писания: «О том, что было от начала, что мы слышали, что видели своими очами, что рассматривали и что осязали руки наши, о Слове жизни, – ибо жизнь явилась, и мы видели и свидетельствуем, и возвещаем вам сию вечную жизнь, которая была у Отца и явилась нам, – о том, что мы видели и слышали, возвещаем вам» (1 послание ап. Иоанна Богослова гл.1, ст. 1-3). Такое соборное видение воплотившегося Бога сделало бытие иконографических образов неотъемлемой частью церковной христианской практики.
Другой характерной чертой времени формирования иконописного канона была та особенность «византийского» подхода к любой системе мысли, как к определенному стилю жизни, а не как к методологии чисто научной стороны знания. Богословие на востоке (и на западе до возникновения схоластики) понималось как путь жизни, слагающийся из множества мировоззренческих истин, постигая которые, человек способен познать самую главную из них – Бога. Богословие не было областью академического знания, а было частью повседневных забот социальной среды устремленной из времени в вечность. Поэтому богословие рождалось не в академиях и училищах (в них, как раз зачастую возникали ереси, такие, как оригенизм в Александрии), а в жестких дискуссиях на Вселенских и поместных соборах. Главной темой обсуждаемой на соборах была личность Иисуса Христа. Даже когда речь шла о приснодевстве Богородицы, даже когда обсуждалась дата Пасхи Господней – речь шла, несомненно, о достоинстве богочеловеческой природы Иисуса Христа. Тоже можно сказать о деяниях Седьмого Вселенского собора 787 года который постановил, говоря о иконах: «ибо честь, воздаваемая образу, восходит (διαβαίνει) к первообразу, и поклоняющийся (ο προσκυνών) иконе поклоняется (προσκυνεί) ипостаси изображенного на ней».
Еще одной важной, и пожалуй, главной, задачей иконы было запечатлеть возможность достижения человеком такого состояния, о котором знала и свидетельствовала древняя церковь в лице отцов-каппадокийцев (IV век), в творчестве Дионисия Ареопагита (V век), св. Максима Исповедника (580-662), свт. Григория Паламы (1296-1359). Это состояние отцы Церкви
именовали «обо́жением¹». Оно наступает в результате подвижнически-созерцательной жизни. Речь идет об апофатическом видении Бога – Бога лишенного материальных свойств. Этим Богом невозможно обладать или дать Ему какую-нибудь характеристику, потому что Он выше и « во свете живет неприступном. Которого никто из людей не видел и видеть не может» (1 Тим. 6, 16). Но задача богослова, а значит и иконописца, показать эту запредельную мистику божественной природы такими скудными средствами, какими являются слова или исходные компоненты иконографического творчества. Отсюда следует подчеркнуть неразрывную связь иконы с литургией. Богослужение (особенно Евхаристия), как основа христианской культуры питалась не только соками Откровения (Писания и Предания), но и богословским творчеством, запечатленным в соборных деяниях Церкви. Очень важный критерий, по которому всегда определялась истина живущая в Церкви, как в Теле Христовом: закон жизни (lex vivendi) и закон веры (lex credendi) в ней всегда совпадают с законом молитвы (lex orandi). В богослужения никогда не проникали молитвословия духовно и доктринально чуждые опыту Церкви и учению святых отцов (то есть – еретические). Этот дух связи богословия и богослужения предельно ясно выразил Евагрий Понтийский (346-399) говоря : «Если ты истинно молишься – то ты богослов» (цитата по Патрология Латина Слово 3,3. PL , 54,соl.144 А).
На помощь богословским формулам пришли и эстетически дополнили их методы иконографии, подготовленные веками предшествующих поисков.
Эстетические основания.
Иконография, вероятно, родилась как иллюстрация к сакральной жизни первенствующей церкви, но это было не просто отражение реального опыта ее в символических знаках, а такое послание, которое стремилось связать то, что было в прошлом с современной, насущность жизнью христиан. «Такие формулы и знаки, как: агнец и дельфин, феникс и павлин, рыба и голубь, крест и якорь, пальма и маяк, быстро рисуются и усваиваются, но самая их схематичность лишена жизни и силы и чужда ясного характера, чему, прежде всего, должна отвечать всякая иконография» - писал исследователь темы иконографии Богоматери Никодим Павлович Кондаков. Освоение иконографических приемов придет вместе с ростом богословской мысли, но на начальном этапе своего развития, в эпоху гонений, мы можем указать на первые, робкие попытки прорвать схематический плен в иконографии. Это образ Богоматери в римских катакомбах святой Присциллы (вторая половина II века), где присутствие рождественской звезды, говорит о влиянии евангельских текстов, как первоначального источника для творчества. Ныне не сохранился, но хорошо описан в книге Н.П. Кондакова. Второе, подобное изображение относящееся к III веку сохранилось в катакомбах свв. Петра и Марцеллина. Та же тема Рождества и богоматеринства. Богородица представлена сидящей на стасидии и держащей на руках спеленатого Младенца. Её образ перекликается с тем, как в эту эпоху выглядела римская матрона – свободная женщина из аристократических кругов общества. Но, вероятно, в греко-римском мире был еще один эталон способный быть сопоставленным с образом Богоматери – это образ древнегреческой богини Афины Паллады. Она, в одном лице богиня-дева и богиня-воительница. Чтобы лучше понять это, необходимо вспомнить, чем была эта богиня для жителей Афинского полиса. Чем являлся Парфенон (по гречески [παρσένοζ] «храм Девы») на Акрополе и вообще весь культ связанный с Афиной Палладой? Вся история Афинского полиса, его историческая судьба неразрывными узами связана с этим местом и с этим образом.
Согласно с таким пониманием формировался и тип иконографии – Богородица – заступница, предстательница и покровительница «своего» народа, то есть, христиан. Этот тип формировался с привнесением субъективных моментов, связанных с историческими, географическими или социальными условиями сопровождавшими происхождение культа.
Но необходимо отметить живучесть античной традиции бытовавшей преимущественно в восточных пределах Римского мира с его созерцательной сосредоточенностью на внутреннем содержании человеческой личности. Ярким примером такого искусства может служить изображения, найденные в Фаюмском оазисе в 1887 году британской экспедицией во главе с Флиндерсом Питри. Созданные в технике энкаустики (рисование нагретой темперной краской на основе воска) погребальные портреты в римском Египте I—III веков возможно стали переходной ступенью от живописи несущей религиозный характер в предшествующую христианству эпоху к выражению сакраментальной истины, которая содержалась в учении Иисуса Христа. Если задачей фаюмских портретов было сохранить реальность внешнего вида изображаемых персонажей, то пришедшая ему на смену иконография вводила целый ряд элементов чисто символической направленности, лишь указывающих на объект изображения и в определенной знаковой системе раскрыть внутреннее его содержание. В своем замечательном эссе «Чему учат иконы?» М.А. Волошин писал: « У красок есть свой определенный символизм, покоящийся на вполне реальных основах. Возьмем три основных тона: желтый, красный и синий. Из них образуется для нас все видимое: красный соответствует цвету земли, синий - воздуха, желтый - солнечному свету. Переведем это в символы. Красный будет обозначать глину, из которой создано тело человека - плоть, кровь, страсть. Синий- воздух и дух, мысль, бесконечность, неведомое. Желтый - солнце, свет, волю, самосознание, царственность. Дальше символизм следует законам дополнительных цветов. Дополнительный к красному - это смешение желтого с синим, света с воздухом - зеленый цвет, цвет растительного царства, противопоставляемого - животному, цвет успокоения, равновесия физической радости, цвет надежды. Лиловый цвет образуется из слияния красного с синим. Физическая природа, проникнутая чувством тайны, дает молитву. Лиловый, цвет молитвы, противополагается желтому - цвету царственного самосознания и самоутверждения. Оранжевый, дополнительный к синему, является слиянием желтого с красным. Самосознание в соединении со страстью образует гордость. Гордость символически противопоставляется чистой мысли, чувству тайны. Если мы с этими данными подойдем к живописным памятникам различных народов, то увидим, как основные тона колорита характеризуют устремление их духа. Лиловый и желтый характерны для европейского средневековья: цветные стекла готических соборов строятся на этих тонах. Оранжевый и синий характерны для восточных тканей и ковров. Лиловый и синий появляются всюду в те эпохи, когда преобладает религиозное и мистическое чувство. Почти полное отсутствие именно этих двух красок в русской иконописи - знаменательно! Оно говорит о том, что мы имеем дело с очень простым, земным, радостным искусством, чуждым мистики и аскетизма».
Следуя методу, выявленному Волошиным, нам становятся ясней и прозрачней те эстетические принципы, с помощью которых первые иконописцы создавали свои творения. Так цветовая символика в иконах Богоматери, держащей на руках младенца Христа, как правило, имеет зеркальное отображение. Христос изображается с красном хитоне (нижняя туника) и синем гиматии (верхний плащ). Это символизирует соединение двух Его природ (красный – цвет крови и жертвы + синий цвет неба). У Богородицы, наоборот, хитон синий, но красный гематий. Значит Христос – Бог, ставший человеком, а Богородица – человек, достигший родства с Богом. Кроме того, омофор, который покрывает ее голову, не красный, а темно-коричневый («цвет спелой вишни»). Это цвет, возникший от смешения крови и земли. Это символ жертвы. Символ того, что кровь Христа пролилась за грехи всего мира. Таким образом, в классической иконографии Богоматери воплотились идеи свидетельства о встрече божественного и человеческого, небесного и земного.
Исторические свидетельства говорят, что широкое распространение иконографии Богородицы началось после III Вселенского собора ( Ефес 431 г.), который утвердил за Божией Матерью наименование Богородица (греч. Θεοτόκος). Её изображали по пояс, но были изображения в рост и оплечные, в профиль, в повороте на три четверти и фронтальном ракурсе. Кроме того, по аналогии с иконами Христа Пантократора (Вседержителя), она могла быть изображена сидящей на престоле. Но иконография Богородицы более обширна и насыщена конкретным историческим смыслом. В Русской Православной церкви насчитывается более 400 списков чудотворных икон Божией Матери, которые можно свести к четырем основным иконографическим типам.
Оранта (от лат. orans — молящаяся) представляющий Её с поднятыми и раскинутыми в стороны руками, раскрытыми ладонями наружу, то есть в традиционном жесте заступнической молитвы. Развитие этого образа идет от раннехристиансих фресок римских катакомб II – III вв.

Елеуса (греч. Ελεούσα — милостивая, милующая от έλεος — сострадание, сочувствие), Элеуса, Умиление — один из основных типов изображения Божией Матери в русской иконописи. Богородица изображена с Младенцем Христом, сидящим на Её руке и прижимающимся щекой к Её щеке. На иконах Богородицы Елеусы между Марией (символом и идеалом рода человеческого) и Богом-Сыном нет расстояния, их любовь безгранична. Икона прообразует крестную жертву Христа Спасителя как высшее выражение любви Бога к людям. В искусстве Византии данный иконографический тип именовался чаще Гликофилуса (греч. Γλυκοφιλουσα — сладко любящая), что иногда переводят как Сладколобзающая или «Сладкое целование».

Одигитрия (греч. Οδηγήτρια — Путеводительница), один из наиболее распространённых типов изображения Богоматери с младенцем Иисусом. Отрок-Христос сидит на руках Богородицы, правой рукой Он благословляет, а левой — держит свиток, реже — книгу, что соответствует иконографическому типу Христа Пантократора (Вседержителя). Отличием от довольно близкого типа Елеусы служит взаимное отношение Матери и Сына: икона выражает уже не безграничную любовь, здесь центром композиции является Христос, обращённый к предстоящему (зрителю), Богородица же, также изображённая фронтально (или с небольшим наклоном головы), указывает рукой на Иисуса.C догматической точки зрения основной смысл этого образа — явление в мир «Небесного Царя и Судии» и поклонение царственному Младенцу.

Панахра́нта (греч. Πανάχραντα — Всенепорочная, Пречистая), Всемилостивая, Всецарица — один из иконографических типов изображения Богородицы, близкий к типу Одигитрия. Этому типу характерно изображение Богоматери, восседающей на престоле с Младенцем Христом на коленях. Трон символизирует царственное величие Божией Матери. Отсюда идет именование Богородицы Царицей Небесной.

Агиосорити́сса (греч. ἡ Ἁγιοσορίτισσα, происходит от названия часовни греч. Ἁγία Σορός (Агиа Сорос — святой Раки) при Халкопратийском храме Богородицы в Константинополе) — один из типов изображения Богородицы без Младенца, обычно в повороте три-четверти с молитвенным жестом рук. Известен по ряду византийских источников не позднее IX—X вв., получил широкое распространение в византийском искусстве XII—XV вв. Иконографически восходит к деисусной композиции, где Богородица обращается к Христу с молением (греч. деисис) за род человеческий, отсюда ещё одно именование — Заступница. Этот тип наиболее близок и типу «Знамения», но может считаться отдельным, пятым способом изображения, где пресвятая Дева предстоит в молитве перед Сыном - Христом. В греческой традиции подобные иконы именуются Параклесис (Просительница), чаще всего (особенно в искусствоведении) этот эпитет присвоен изображениям Богородицы, держащей в руках свиток с текстом Своего моления. Один из видов икон, представляющих Богородицу Параклесис (Агиосоритиссу) в русской иконописи получил название Боголюбская (по имени князя Андрея Боголюбского), которому по легенде явилась Богоматерь со свитком в правой руке и с левой рукой, простёртой на молитву к видимому на возду́хе Христу.

Трагический разрыв
На христианском западе почитание икон Богородицы было самим собой очевидным фактом, что запечатлено в сохранившихся изображениях древних усыпальниц и храмов.
Св. Григорий Двоеслов, папа Римский, называл икону «библией для неграмотных». В 599 г. он написал марсельскому епископу Серену послание, в котором хвалил его за рвение, с которым он противостоял идолопоклонству, но порицал за уничтожение икон. Во втором послании папа Григорий требовал восстановить иконы и объяснить народу, как правильно следует их чествовать. В начале VIII века в Риме созданы две замечательные иконы – Богоматерь – Покровительница римского народа из базилики Санта-Мария Маджоре и другая Богоматерь с Младенцем, из церкви Санта-Мария Нуова. Можно предположить, что они были созданы либо под сильным влиянием восточно-христианской мистики, либо это плоды творчества самих византийцев, в большом количестве бежавших от гонений в этот век иконоборчества. Занимавший в это время папский престол Иоанн VII (705-707), привнёс на запад волну греческих влияний. Им же введена в церковный обиход и предложена для народного поклонения икона именуемая «Мадонна Милосердия» (Царица Небесная) из церкви Санта-Мария ин Трастевере. Именно эта икона стала своего рода эталоном, типичным для западного средневекового почитания Богородицы. Мы видим восседающую на престоле в окружении ангелов Пресвятую Деву, держащую на коленях Богомладенца. Её фигура облачена в царские одеяния, на голове - диадема византийских василевсов, левой рукой она сжимает скипетр – символ царской власти, а правой поддерживает Иисуса и как бы указывает на Него, обозначая источник своего величия. Ангелы изображены несколько отстраненными от самой Девы, даже жестами своими, символизируя непостижимость Её царственной природы. Сравнивая этот образ с иконой Богородицы VI века, сохранившейся в монастыре святой Екатерины на Синае, можно проследить сюжетное заимствование, связывающее два изображения. На обоих запечатлена Мария, сидящая на троне в окружении святых и ангелов. Но насколько разительно отличие Синайской иконы, которое сказывается в пластичности изображенных фигур, в цветовой гамме и деталях облачений, в духовной сосредоточенности лиц и непринужденности взоров Богоматери, Спасителя и святых. Лики ангелов исполнены живым эмоциональным чувством, они глядят вверх, указывая на движение восхождения и нисхождения по «Лествице Иакова» - которая, в христианском богословии, является символом Божией Матери. И, напротив, на римской иконе раннего VIII века мы видим яркий образец выражения идеи имперского величия и триумфа Церкви (хранительницы ключей св. Петра) и Богородицы, которая становится Царицей Небесной. Роскошность внешнего убранства, подчеркнутое богатство деталей облачения и трона, застывшее выражение лика, возвышает и, одновременно, скрывает ту близость Божией Матери к людям, которая была характерна для восточно-христианской мистики.


Попробуем понять почему появилось это отдаление от общего видения подвига Богородицы, как небесной лестницы, как Утешительницы человеческого рода смысл жизни Которой ярко выражает тропарь Церкви : «радуйся Обрадованная, во Успении Твоем нас не оставляющая».
Раннехристианский апологет и учитель Ориген (+ 254) говорил: «Изучая науки, стремись постигать сущность вещей». Мы должны понимать причины трагического разрыва, имеющего свои последствия вплоть до нашего века, до «века веков». Потому что разрыв этот прошел не только по границам церквей и государств, а по самим человеческим сердцам. Его причины и последствия имели чисто антропологические черты и непосредственно связаны с тем, кого мы именуем человеком. Еще Святитель Василий Великий (+379) утверждал мысль о том, что тайна Богочеловека Христа заключена в феномене самого человека. Он говорил о том, что познавая природу человека (его дух, душу и тело), мы непременно прейдем к пониманию Бога. «Какое различие в природе и ипостаси ты произвел в себе самом – перенеси на Бога и не согрешишь» - писал он. (Св. Василий Великий «Письмо Григорию брату о различии сущности и ипостаси») http://azbyka.ru/otechnik/Vasilij_Velikij/pismo-grigoriju-bratu-o-razlichii-sushhnosti-i-ipostasi

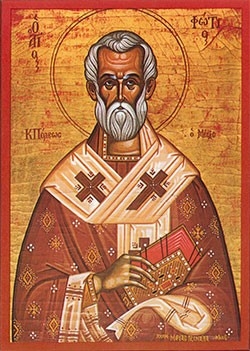
Святитель Фотий Константинопольский (+896) пишет : «В человеке я вижу тайну Боговоплощения». Откуда такие утверждения? Дело в том, что Церковь еще в лице мужей апостольских и апологетов делала вначале робкие, а затем всё более громкие и убедительные предположения, что из всей предшествующей новому времени сокровищницы духовной мудрости христиане должны взять всё самое лучшее, что было создано гением предшествующих поколений. Среди этого лучшего, пожалуй, наиболее ценным, была эллинская культура философской мысли, имеющая свою стройную систему, терминологию и сложившийся понятийный аппарат. Используя в своих целях античную философию, отцы Церкви достигали двойного результата. Они продолжали сложившуюся в веках традицию и одновременно отстаивали свои взгляды, вписывая их в существующую гносеологическую парадигму.
Когда по ряду исторических причин (о которых речь пойдет ниже), на христианском западе возникла необходимость дополнить Никео-Цареградский Символ веры в его восьмом члене припиской «Filioque» (с лат. «и Сына»), неизвестной на востоке, возникла дискуссия. Это, прежде всего, касалось переписки Константинопольского патриарха Фотия с римским папой. Восточные богословы были удивлены научной слепотой богословов западных и попытались объяснить свое отношение к последствиям такой необдуманной догматики. Говоря о причинах, Фотий указывал на то, что неплохо, когда достоинство Бога Сына подтверждается ссылкой на единосущие с Богом Отцом (против еретиков-ариан, которые не исповедуют Сына таким же Богом, как и Отца). Но что же в результате этого может произойти?
Если обратиться к вопросу бытия Святой Троицы, мы увидим, что христианство утверждает, что Бог-Троица имеют одну Божественную природу и три Лица. При этом, природа эти Лица делает Едиными (Троица Единосущная и Нераздельная), а Лица говорят о существовании внутри Божественной природы Бога Отца, Бога Сына и Бога Святого Духа. Это не три Бога, а три Лица, которые являют себя в Божественном Откровении. Для того чтобы подчеркнуть возможное для нашего понимания самостоятельное бытие каждого Лица ему приписываются определенные характерные свойства. Отец предвечно рождает Сына и изводит Святого Духа. Таким образом эти свойства подчеркивают самостоятельность и онтологическую реальность каждого Лица Св. Троицы.
Философский смысл слова «природа» (сущность) - это всё то, что отличает один класс предметов от другого (например, всё то, что отличает человека от всего прочего мира творений – общая человеческая природа). Под термином «лицо» или «личность» Аристотель понимал совокупность свойств и характеристик, присущих конкретному предмету (например, данному человеку – внешне не похожему на других). Он называл эти свойства «ипостасью». Но дело в том, что совокупность личностных свойств в человеке это свидетельство не только того, что каждый из нас неповторим, но что каждый из нас ущербен, потому, что какая- то часть положительных качеств в нас присутствует, а какая-то нет. «Каждый человек настолько же индивидуален, насколько и ущербен» (диакон Андрей Кураев «Православная философия и богословие»).
http://svitk.ru/004_book_book/15b/3409_kuraevpravoslavnaya_filosofiya_i_bogoslovie.ph
Потому в христианском богословии была предложена следующая система понимания личности и природы. Под природой (сущностью) понимали специфические черты данного предмета – всё что объединяет. Под индивидуальностью (аристотелевское именование «ипостаси») – набор неповторимых свойств, которые говорят о различии – это то, что подчеркивает, как различно проявляется общая природа предметов одного класса. И под личностью (христианское именование (др.-греч. ὑπόστᾰσις «ипостаси») понимали тот субъект, который обладает всеми природно-ипостасными свойствами (всеми качествами, присущими индивидуальному бытию) без ущерба. Вот эта ипостась и была основой первозданного человека – как некий нереализованный (но долженствующий осуществиться) эталон человеческой природы. Личность (ипостась) связывает в себе все природные и качественные действия человека.
У преп. Максима Исповедника есть учение о двух волях в человеке. Согласно ему существует две воли: природная воля, – которая диктует естественные потребности в пище, питье, чтении и т.д. – в ней нет греха. И личная воля, - или «произволение» – которая призвана направить естественную энергию природной воли в полезное для человека русло. То есть можно удовлетворить потребности в пище, питье и потреблении информации, а можно сорваться в грех, в пьянство, в объедение в блуд и т.д. Это все равно, что садовник, поливающий из шланга клумбу. Он может уменьшить или увеличить напор воды, может понизить струю или орошать листья. А может, вообще, поливать из шланга прохожих. Здесь вода, поступающая в шланг – природная воля, а сам садовник – личная воля – или произволение, которая зависит от заложенной в нее свободы выбора. Таким образом, в православном учении личность (ипостась) возвышается над природным хаосом. «Латиняне рассматривают ипостась как модус природы, греки — как содержимое личности», — замечает византолог прот. Иоанн Мейендорф. Потому что в терминологии запада личность (начиная с Боэция) обозначалась термином «persona» (от др.-греч. πρόσωπον - «просопон» - маска), на востоке использовали термин «ипостась», то есть образно говоря «сокровенное в человеке», то что не видно поверхностным взглядом, но то, что является основой всего бытия личности - её фундаментом. Ипостась — это такое частное, которое, в то же время, является «вместилищем» общего (сущности) т.е. природы. Если перенести эти рассуждения на теорию догмата «Filioque», то получится, что в западном богословии утверждается тот факт, что два Лица Святой Троицы имеют одно общее свойство, которого нет у третьего. Напомним, что свойства говорят о самобытности каждого из Лиц Святой Троицы и не должны повторяться. Таким образом, формируется представление о Боге, которое нельзя не назвать пантеистическим (где природа первична, а личность вторична).
Принижение достоинства Святого Духа коснулось всей жизни западной церкви. Это выразилось в том забвении евангельского соборного начала («угодно Духу Святому и нам…» (Деяния 15. 28.) и укреплении
церковной монархии – папа становится политическим «наместником Христа», обладателем истины «ex catedra». Догмат «Filioque» послужил причиной возникновения другого учения - о непорочном зачатии Девы Марии¹, что исключает её из участия в Святой Пятидесятнице. (Догмат о Непорочном Зачатии Девы Марии был провозглашен папой Пием IX лишь в 1854 году.) Особенно сильное влияние «Filioque» прослеживается в иконографии. В западной художественной культуре изображение святых, Христа и Богородицы фиксируется с фотографической точностью. Свидетельство Святого духа обозначено парящим кружочком над головой. Отними его – и перед нами обычный человек, со всеми его страстями и желаниями.


Исторические причины и последствия.
Чтобы понять истоки такого различного восприятия и визуализации сакрального мира в иконографии, мы должны вспомнить, чем был VII и VIII века в истории Европы. VII век это последний век существования Римского
мира. Не в V веке, а именно в VII он понёс невосполнимые территориальные потери. Изменился государственный строй. Именно в VII веке византийский император Ираклий впервые официально принимает титул василевса (царя римлян), до этого (с конца III века) император именовался доминус. В самой восточной империи начинает складываться фемный строй, при котором было покончено с разделением гражданской и военной власти. И самое главное, именно в это время (к 700 г.) государственным языком вместо латыни становится греческий. Именно тогда, в VIII веке, Восточная Римская империя, условно говоря, становится Византией. В 751 году пала Равенна ( временная столица), и запад (Рим) вышел из под контроля империи. В 800 г. папа самовольно коронует императором Запада короля франков Карла Великого. Римских империй становится две : греческая ( Византийская) и латинская (Официально государство называлось «Империя Запада» фр. Empire d’Occident.). Карл Великий (особенно после принятия императорского титула) действительно попытался возродить Римскую империю (на основании наглядного византийского образца): была создана чёткая административная система с графами и епископами на местах (византийский аналог графств - фемы). Влиятельная канцелярия из духовных лиц, велось масштабное строительство, делались попытки возродить систему образования с опорой на церковные организации, была создана придворная академия для возрождения наук и искусств. И император, несомненно, был главой Церкви, посредником между Богом и людьми, унифицирующим каноны, изменяющим Символ веры, ответственным за спасение душ подданных. Различие с востоком было в том, что на западе делали особую ставку на личный вассалитет. Каждый человек должен был выбрать себе господина. Так было удобней для организации военной службы, когда вассалов ставили в строй сами крупные землевладельцы.
Формирующийся вассалитет и система ленных связей немыслима без участия рыцарей – представителей благородного сословия, которые стали движущей социальной силой эпохи высокого средневековья. Эстетический идеал рыцаря – образ Прекрасной Дамы, которая вдохновляет его на совершение подвигов и приобретение нравственных достоинств. Архетипом этого идеального образа, несомненно, является иконографически запечатленное видение Божией Матери – Царицы Небесной – в латинской терминологии именуемой Madonna («моя Госпожа»). Здесь идеи материнства, покрова и заступничества сменяется идеей «служения Мадонне» и совершение таких поступков, которые бы сумели «завоевать Её сердце». Характерно, что это служение носило чисто внешний, формальный характер, его исполнение было лишено внутреннего содержания и сосредотачивалось на самом действии, а не на состоянии души.
Почитание Марии, как «Новой Евы» особенно распространилось с XI в. В 1140 г. был введен праздник непорочного зачатия Марии. Богородица пользовалась особым народным почитанием. Гвибер Ножанский объясняет как Мария, принадлежащая сотворенному миру, могла влиять на Творца: ведь она, заявляет Гвибер, мать Бога, а мать не просит, она приказывает. Вот почему Христос слушает ее и, прислушиваясь к ней, может менять Свои решения. С культом заступницы, в котором отчетливы языческие народные мотивы, переплетается и поклонение тому вечно женственному началу, которое воспевали трубадуры и воплотили в камне скульпторы XII—XIII вв.¹
Большие надежды на смягчение наказания связывали с вмешательством Богоматери, Верили, что Она способна вызволить из когтей Дьявола даже великого грешника, если он поклонялся ей при жизни. В одной из проповедей рассказывалось, что Мария вступила в спор с бесами из-за души развратного монаха. «Бесы утверждали, что он принадлежит им, но Пресвятая Дева, «знавшая, что даже отправляясь к женщине, с которой он состоял в преступной связи, монах не преминул прочитать перед ее статуей «Ave Maria!», заявила, что он —«Ее раб» и передала дело на решение своего Сына, который возвратил монаха к жизни, чтобы предоставить ему возможность покаяться» (А.Я. Гуревич. Культура и общество средневековой Европы глазами современников. С. 152.)
...Ссылаясь на одного благочестивого монаха цистерцианского ордена, Цезарий Гейстербахский рассказывает о событиях, которые имели место
несколько лет назад в его провинции (область Нижнего Рейна). Тогда были бури и грозы, и люди с изумлением наблюдали, как находившаяся в церкви статуя Богоматери стала сильно потеть, так что
женщины собирали в подолы капли пота. Там очутился один одержимый, и его спросили о причине этого удивительного явления (верили, что бесы устами одержимых способны вещать истину и раскрывать тайны). «Чему дивитесь? — отвечал он. — Сын Марии простер карающую руку, и, если бы Она Его не удержала, мир уже прекратил бы свое существование. Вот и причина пота».
... Повесили известного разбойника Эббо, но он не умер. Оказалось, что когда он уже висел в петле, явилась Дева Мария и на протяжении двух дней поддерживала его своими руками. Дева не позволила возвратившимся к виселице палачам и судьям перерезать ему горло, а те, узнав о ее помощи, отпустили Эббо, который сделался монахом. В чем причина милости, оказанной ему Богоматерью? Эббо очень почитал пресвятую Деву и, далее отправляясь на разбой, благочестиво приветствовал ее.
…Юный клирик явился после смерти своему отцу с вестью, что с помощью Девы сподобился вечного спасения. На суде поначалу пришлось ему скверно: взвешивание его добрых и злых дел поставило его перед угрозой неминуемого проклятья, но вмешалась сердобольная Царица мира и надавила на чашу весов с его добрыми делами, которые сами по себе весили немного. Что же побудило Богоматерь прийти ему на помощь? По его собственным словам, он не имел никаких заслуг, помимо того, что в церкви, когда ее славили и все сидели, он стоял. Этот молодой человек хотя бы знал, за что его почтила Дева Мария своей милостью, а вот некий юный испанец, который требовал, чтобы его немедля исповедовали, ибо явилась ему Богоматерь и объявила, что, наутро он умрет, вообще не знал за собой никаких достоинств, кои она могла бы оценить. Лишь по настоянию исповедника он вспомнил, наконец, что в доме его матери была служанка по имени Мария, и он ребенком перенял у матери обыкновение всякий раз, слыша имя Мария добавлять «Аве Мария». Этого было достаточно, чтобы он угодил Богоматери.
Рыцарь, увидев красивую девушку, похитил ее прямо на дороге и увез к себе. Однако, узнав, что имя ее —Мария, он, страшась почитаемой им Девы Марии, отпустил девушку. После этого Дева явилась ему и поблагодарила, приказав блюсти чистоту; за это она способствовала достижению им высокого социального положения. Но следующая история кажется еще более странной.
Человек, долгое время грешивший с собственной сестрой, тяжко заболел и лежал день или более «как бы мертвый» — тело его было холодное, и лишь в груди едва теплился признак жизни. Между тем он был отправлен на тот свет, и, когда бесы уже хотели сбросить его в пропасть ада, явилась святая Дева, возвратившая его к жизни. Все так и было, ведь он самолично поведал обо всем брату Николаю из Везенфорда, а тот в Дублине передал [проповеднику, из проповеди которого взят этот пример]. Брат Николай спросил его: «Почему наша Госпожа пожелала иметь попеченье о грешнике, настолько вывалявшемся в грязи?!» Никакой другой причины не было, кроме того, что они с сестрой постоянно из любви к Святой Деве давали ей по две меры браги. Дело, разумеется не в подношении, а в любви и преданности, которую грешники таким образом изъявляли Богоматери. Даже, если эти знаки внимания и поклонения исходят от таких злодеев, как разбойник или кровосмеситель, они не теряют своей действенности. (А.Я. Гуревич. Культура и общество средневековой Европы глазами современников. С. 154).
Попробуем сравнить такое специфическое отношение к чудесам Богородицы на западе с подобным же пиететом на востоке. В сборнике, составленном во второй половине XIX века, под названием «Сказание о земной жизни Пресвятой Богородицы» собраны многие и самые известные Её чудеса, явленные в житиях наиболее почитаемых святых восточного христианства.
«Никифор Каллист повествует, что когда-то в окрестностях столицы было прекрасное место, осененное рощею платанов и кипарисов и орошаемое чистым и светлым источником; но от времени оно засохло и сам источник засорился. Император Лев, будучи еще частным человеком, прогуливался в этом месте и встретил человека, слепого от своего рождения. От природы мягкий и сострадательный будущий император подал руку слепцу и повел его; но солнце палило, и слепец жаловался на сильную жару. Напрасно Лев, посадив слепца в тени, прошел всю рощу, отыскивая воду: воды не было видно. Но когда он, усталый, возвратился от бесполезного поиска к слепцу, вдруг услышал чудный голос с неба: «не печалься, Лев; вода подле тебя». Но и сам Лев стал как бы слепым: осматривался вокруг, испытывал землю, - и воды не находил. И вот опять раздался кроткий и приятный голос, не только называющий его по имени, но предсказывающий ему императорское достоинство: «император Лев, войди в эту густую и тенистую рощу и, почерпнув воды, утоли жажду немощного, а илом помажь ему глаза. Кто Я, здесь живущая, ты скоро узнаешь. Устрой Мне на этом месте храм: в нем Я буду внимать молитвам и подавать желаемое всем, с усердием и верою сюда притекающим; ничто не сильно будет противиться власти Моей: демон ли, болезнь ли неисцельная, или что другое, - только бы просили Меня благоговейно». Повинуясь этому указанию Матери Божией, Лев принес слепому ил и воду и помазал ему глаза; глаза открылись, и слепорожденный получил способность ясно и отчетливо видеть». Когда в 457 году Лев I стал императором, он не забыл о явлении и предсказании Божией Матери, приказав очистить источник и построить над ним храм в честь Богородицы, назвав его храмом Богородицы Живоносный Источник.
А как строго Она хранила чистоту веры Православной, показывает случай из жизни преподобного Кириака. Он видел во сне Царицу Небесную с Иоанном Крестителем и Иоанном Богословом и просил Ее войти в келлию его: но Она уклонилась, сказавши: «Ты имеешь врага в келии». Пробудясь, св. Кириак строго осмотрелся вокруг себя и нашел, что таким врагом могли быть только слова еретика Нестория (отрицающего достоинство Богородицы и осужденного на III Вселенском соборе 431 г.), находившиеся в бывшей у него книге.
Святой Алексий, человек Божий, 17 лет простоял на паперти храма в ряду нищих, никем не вознагражденный, и Богородица, на храмовой иконе изображенная, сказала пономарю: «введи в церковь Мою человека Божия, достойного небесного царствия, ибо молитва Его, яко кадило, свободно восходит пред лице Божие».
Клирик Влахернской церкви, преподобный Роман (V век, сириец) не отличался умением петь и читать, какое требовалось в знаменитом храме; товарищи осыпали его насмешками и презрением. В навечерии Рождества Христова, особенно сильно осмеянный ими, Роман, по окончании Богослужения, пал в горьких слезах пред иконою Божией Матери; насытясь слезами, он не вкусил хлеба в своей келлии и заснул. Тогда явилась ему Матерь Божия, подала свиток и этим сообщила дар творения песен. В день Рождества он взошел на амвон и начал вдохновенно петь «Дева днесь пресущественнаго раждает» Изумленный его чудным даром, патриарх поставил его в диакона, и преп. Роман после того написал до тысячи кондаков и его доныне именуют Сладкопевцем.
Преподобная Мария Египетская, еще бывши нераскаянной грешницей, несколько раз пыталась войти во храм иерусалимский, но каждый раз таинственная сила возбраняла ей вход; пораженная Мария пролила слезы пред иконой Царицы Небесной, находившейся в притворе храма, обещая покаяться, - и после того свободно вошла в церковь и приложилась к Животворящему Кресту Господню; затем, возвратившись к иконе Богоматери, она снова молилась пред Нею и, услышав голос: «За Иорданом найдешь себе покой», немедленно удалилась в пустыню и там молитвами и подвигами возвысилась до чистоты ангела небесного. Её житие описано патриархом Иерусалимским Софронием (560— 638).
(Сказание о земной жизни Пресвятой Богородицы», Издание русского на Афоне Пантелеимонова монастыря. М. 1904., 383 с., С.219-224.)
Заметив этот трагический разрыв в понимании и художественном воплощении духовных идеалов запада и востока, великий русский философ и богослов Сергей Николаевич Булгаков посвятил этому вопросу свою работу «Две встречи» (1898-1924). Написанная, как реминисценция прожитых в Европе лет связанных с первыми восторгами от достижений великой западной культуры, он фиксирует своё внимание на картине Рафаэля «Сикстинская Мадонна», описывая ее в самых выспренних, эмоциональных выражениях на какие был только способен его писательский талант:
«…вдруг нежданная чудесная встреча: Сикстинская Богоматерь, в Дрездене, Сама Ты коснулась моего сердца и затрепетало оно от этого зова.
Проездом, спешим осенним туманным утром, по долгу туристов, посетить Zwinger со знаменитой его галереей. Моя осведомленность в искусстве была совершенно ничтожна, и вряд ли я хорошо знал, что меня ждет в галерее. И там мне глянули очи Царицы Небесной, грядущей в небесах с Предвечным Младенцем. В них была безмерная сила чистоты и
прозорливой жертвенности, знание страдания и готовность на вольное страдание, и та же вещая жертвенность виделась в недетски мудрых очах Младенца. Они знают, что ждет Их, на что Они обречены, и вольно грядут себя отдать совершить волю Пославшего: Она — принять «орудие в сердце», Он — Голгофу… Я не помнил себя, голова у меня кружилась, из глаз текли радостные и вместе горькие слезы, а с ними на сердце таял лед, и разрешался какой-то жизненный узел. Это не было эстетическое волнение, нет, то была встреча, новое знание, чудо… Я (тогда марксист) невольно называл это созерцание молитвою и всякое утро стремился попасть в Zwinger, пока там еще никого не было, бежал туда, пред лице Мадонны, «молиться и плакать», и немного найдется в жизни мгновений, которые были бы блаженнее этих слез…».
А затем была жизнь расстоянием в 25 лет. И чего только за эти годы не произошло. Три революции и две войны, смерть любимого сына и разрыв с прежними марксистскими увлечениями, принятие священства, участие во Всероссийском Церковном Соборе, миссионерские труды и вдохновенные книги о вере и церкви, холодное презрение со стороны прежних друзей из научного круга. Вынужденная эмиграция… и – новые впечатления от посещения Дрезденской галереи.
«Пробегаю чрез зал, ни на что не глядя, прямо в ту заветную комнату… С трудом от волненья подымаю глаза. Первое впечатление было, что я не туда попал, и предо мною не Она. Но скоро узнаю и убеждаюсь, что это Она, и, однако, действительно, не Она, или я уже — не — о н. Увы! не ударила в сердце радостною волною горячая кровь, оно не дрогнуло, осталось спокойно. Неужели же так оно охладилось за всю долгую жизнь? Но нет, не то, не то: моя не состоялась встреча, здесь я не встретил того, чего ожидал. К чему таить и лукавить: я не увидал Богоматери. Здесь — красота, лишь дивная человеческая красота, с ее религиозной двусмысленностью, но… безблагодатность. Молиться пред этим изображением? — да это хула и невозможность! Почему‑то особенно ударили по нервам эти ангелочки и парфюмерная Варвара в приторной позе с кокетливой полуулыбкой. Я помню, что и раньше всегда мне это мешало, но я как‑то сравнительно легко справлялся с ними. Но теперь это ощущалось мною как откровенное нечестие, неверие и какая‑то кощунственная фамильярность: ну, можно ли после видения Матери Божией брать такой тон, как будто глумиться над собственной святыней? Можно ли быть нестрогим в… иконе? Но я кое‑как перешагнул через это и теперь и впился глазами в лики Матери и Младенца. Без вдохновенья, с щемящей болью от пустоты в сердце я, вместе с тем, не хотел и оторваться от созерцания; я оставался перед нею все время до закрытия, и, кажется, сидел бы еще до самого вечера, всматриваясь, впиваясь в этот образ с его загадочным очарованием, с его магической притягательностью. Теперь я отдавался ему без восторга и без поклонения, однако, сознавая всю его значительность и силясь теперь по–новому его разгадать. Одно стало для меня уже с первого взгляда — увы! — несомненно: это н е есть образ Богоматери, Пречистой Приснодевы, не есть Ее икона. Это — картина, сверхчеловечески гениальная, однако совсем иного смысла и содержания, нежели икона. Здесь явление прекрасной женственности в высшем образе жертвенного самоотдания, но «человеческим, слишком человеческим» кажется оно. Грядет твердой человеческой поступью по густым, тяжелым облакам, словно по талому снегу, юная мать с вещим младенцем. Это, может быть, даже и не Дева, а просто прекрасная молодая женщина, полная обаяния красоты и мудрости. Нет здесь Девства, и наипаче Присно–девства, напротив, царит его отрицание — женственность и женщина, пол. Приснодевство же свободно и от женственности, ибо оно выше пола, оно освобождает его от плена. Посему Пречистая Присно–дева не может быть рассматриваема как женщина, хотя Она выражает женскую ипостась в человеке. Женское еще не есть пол. Присно-Дева — άει παρσένοζ — пребывает превыше пола. Присно — άει здесь есть не временное определение в смысле состояния, но онтологическое в смысле существа: в Присно–деве Марии отсутствует женственность, в женщине сопричастная греху, но всецело царит только девство, в Женском образе. Вот почему бессильным, ибо ложным, оказывается всякий натурализм при Ее изображении, сколь бы возвышенным и утонченным он ни являлся: он владеет лишь природностью, а последняя знает только женщину. В ведении этого соотношения ослепительная мудрость православной и к о н ы: я наглядно почувствовал и понял, что это она обезвкусила для меня Рафаэля вместе со всей натуралистической иконографией она открыла глаза на это вопиющее несоответствие средств и заданий. В аскетическом символизме строгого иконного письма ведь заключается прежде всего сознательное отвержение и преодоление этого натурализма, как негодного и неуместного, и просвечивает видение сверхприродного, благодатного состояния мира. Поэтому икона не имеет отношения и к портретности, ибо и в ней неизбежно таится натурализм, к которому роковым образом и влечется религиозная живопись. И вот почему последняя никогда не достигает цели, если видит свое достижение в религиозном, а не живописном эффекте. Этим определяется судьба всего Ренессанса как в живописи, так и в скульптуре и архитектуре. Он создал искусство человеческой гениальности, но не религиозного вдохновения. Его красота не есть святость, но то двусмысленное, демоническое начало, которое прикрывает пустоту, и улыбка его играет на устах Леонардовских героев»¹. (С.Н. Булгаков. Тихие думы. С. 390-392.)


Мы можем согласиться с мнением выдающегося ученого-филолога и лингвиста Сергея Сергеевича Аверинцева: «Крайняя, откровенно выходящая за пределы справедливого, резкость определенных выражений (относительно мужской похоти и т. п.) объясняется тем, что у Булгакова речь идет не об оценке «Сикстинской Мадонны» как художественного произведения или историко-культурного феномена. Хотя бы с сугубо духовной, христианской, аскетической точки зрения. Ставится совсем иной вопрос: может ли «Сикстинская Мадонна» — не искусство вообще или так называемое высокое искусство вообще, даже не творчество Рафаэля вообще, но именно «Сикстинская Мадонна» как таковая! — быть убедительной как манифестация христианского идеала, как доказательство, или, по Флоренскому, «показательство» бытия Божия? Вспомним знаменитый силлогизм Флоренского: ««Троица» Рублева есть, следовательно, есть Бог». (С.С.Аверинцев «Две встречи о. Сергия Булгакова в историко-культурном контексте».)
Можно предположить, что во времена Рафаэля перед европейскими художниками не ставили подобных задач. Главной особенностью эпохи было увлечение красотой, как внешней красивостью, осуществлением которой были многочисленные дворцы, парки, храмы, усадьбы знатных вельмож и всё то, что их наполняло. Само искусство Возрождения возникло как реализация христианского тезиса о преображении мира, при полном забвении, что это преображение, прежде всего, должно коснуться нравственной, даже более того, духовной стороны жизни людей, его созерцающих и создающих. Раньше всех современников это сумел понять Микеланджело, который в последних своих работах («Пьетах») выразил весь трагизм и гибельность переживаемой эпохи.


Словесным экфрасисом в литературном тексте позднего творчества великого мастера может быть этот сонет, написанный им в 80-летнем возрасте в конце 1555 г.
Назойливый и тяжкий скинув груз,
Благой мой Боже, и простясь со светом,
К Тебе без сил, в челне нестойком этом,
Из страшных бурь в родную тишь вернусь.
Терн, и в ладони гвоздь, и крестный брус
Со скорбным ликом, жалостью согретым, -
Все страждущей душе звучит обетом,
Что многим покаяньем я спасусь.
Не взор судьи Твое святое око
Да кинет мне в былое, - строгий слух
Да не грозит мне карой возмещенья;
Да кровь Твоя омоет грязь порока!
Чем я старей, тем ревностней мой дух
Ждет помощи Твоей и всепрощенья.
(источник :http://www.mikelangelo.ru/txt/20poet3.shtml)
(Экфра́сис, др.-греч. ἔκφρασις от ἐκφράζω — высказываю, выражаю — описание произведения изобразительного искусства или архитектуры.
Назад к списку

